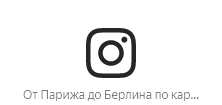Ефимкин голубь

В старые годы у нас, на Урале, в куренях жил мастер отменный по камням и хрусталю — Ефим Федоты Печерский. Видно, мастером был он большим, коли народ про него сказ сложил.
Хочу и я этот сказ рассказать, да маленько вернусь назад, нельзя об Ефиме сказывать, не помянув стариков — его дедов-мастеров.
Люди говорили, что заветная ниточка, из мастерства да уменья свитая, от дедов к внукам тянется: «Не узнаешь старого, трудно новое понять».
Сам Соломирский, владелец заводов, вывез Григория — Ефимова деда. Насулил золота груды за то, что Григорий умел камень гранить да всякие диковинки из него делать.
К слову сказать, это уменье на Печоре-реке и в Устюжанах крепкие корни имело, в седые века упиралось. для церквей и барских хором умельцы разные украшения делали.
На Урал Григорий пришел не один, а с семьей — шесть сыновей привел да три дочки на выданье. Сыновья отца переняли уменье, с мужьями сестер секрет раз делили. Так и родилась Пеньковка. Все печорские там жили, друг возле друга, где первый Григорий избу срубил и уральскому камню сердце отдал...
Один из сыновей Григория тоже в Пеньковке жил, дедовским ремеслом занимался — камнерезом первым был. То ли фартовым уродился, то ли камень умел видеть насквозь — его вазы, подсвечники только во дворцы вывозились. Когда он парнишкой был, Федюньшей звали, а вырос, мастером стал — дядей Федотом величали. Жил Федот с женой и с сыном. Дружно, согласно жили они.
Его жена Аграфена веселая была. Как говорится, всем взяла: красотой, ровно цветок Марьин корень, и ласковым нравом, а песни пела — всем сердце грела, душу веселила, радость несла.
Сын подрастал, красотой весь в мать уродился: черные глаза, да кудри материнские, рост богатырский — в отца. Григорий по приказу управителя то дрова рубил, то камень гранил. Так и жили они в нужде да согласии, от горя сторонились и в богатство не лезли. Но недаром старики поговорку сложили: «Ты от беды в ворота, а она к тебе в щелку».
Не знал Федот, где на беду придется наткнуться, знал бы — стороной обошел.
Нежданно-негаданно в завод сам хозяин Соломирский приехал.
Говорили, все Соломирские на одном были помешаны — птиц шибко любили, везде их ловили да чучела из них делали. Известно, не сами, а на эти дела своих мастеров имели, да к тому же народ Соломирского и не знал. Все по заграницам барин болтался, отцовское добро проживал, да на теплых водах от дури лечился. Вслед за ним потянулась ватага всякого сброду: певицы-синицы прискакали, музыканты с инструментом понаехали. Разные учителя и танцоры приехали. Осела эта ватага в заводе, новые нравы пошли в господском доме.
Только один из приезжих по душе простому народу пришелся. Обходительный такой, хоть и веры не нашей. Видно, из небогатеньких был, оттого к крестьянскому да заводскому люду жалость имел. Учителем пенья нанялся он в Париже к Соломирскому.
Часто по праздничным дням учитель-француз к плотине на пруд ходил, где после обедни народ собирался: деды там старинку вспоминали, бабки сказки сказывали, а девки и парни новые были плели, песни хороводные пели. Придет, бывало, учитель к плотине, сядет в сторонке и слушать начнет, как люди поют. Крепко его сердце жгла русская песня.
На первых порах молодяжник, особенно девки, сторонились француза: как можно, хоть и добрый, но барин, а потом привыкли к нему, даже шутки шутить с ним стали. В глаза барином звали, а за глаза по-русски «Петро», оттого что по-ихнему, по-французски, звали его Пьером.
Пожил Соломирский с месяц в заводе и опять в скуку впал. Известно, от безделья одуреть можно, и всякая дурь в ум полезет. Вот и придумал он театр открыть, на манер домашних театров, какие были тогда в господских усадьбах. Дал приказанье — для хора набрать певцов из заводских. Много взяли и особенно девок — тех, кто петь умел и в плясках отличку имел.
Будто на Федотову беду, во время прогулки у пруда управитель услыхал пение Федотовой жены — Аграфены. Полощет Аграфена белье, а сама поет-разливается, ровно с птицами спор ведет: кто лучше поет. Удивился барин, аж руками развел. Подошел поближе. Спросил Аграфену, чья она, где живет.
А дня через два за ней послали нарочного. Аграфену в господский дом потребовали. Немного же дней спустя совсем забрали. Хористкой сделали.
В три ручья плакала баба. Валялась в барских ногах. Ничего не помогло. Сгубили бабу так ни за что, ни про что.
В ярко-кумачовый сарафан нарядили, в бисером шитый убор голову обрядили, а сердце будто вынули. Стала сохнуть она, как осенняя трава в поле. Только и радости было у нее, когда на часок домой, как и всех, по праздничным дням отпускали. Прибежит домой она, припадет головой к сыну, бьется от горя, слезы рекой разливаются. Но как говорят: «Всех слез не выплакать, всех горестей не пережить». Не смогла вынести Аграфена разлуки с сыном и мужем, и когда ветер Осенний в Урале песни запел, хмурое небо дождем плакать стало, она, как в старину говорили, богу представилась...
Угрюмо и молча Федот смерть жены переносил, за то часто на свежей могиле плакал Ефимка, так звали сына ее.
Да еще одному человеку смерть камнем на сердце легла. Ведь на глазах у Пьера сохла она.
Как он просил Соломирского отпустить Аграфену к мужу и сыну. Куда тут! Недаром говорится, как в зимнюю стужу в лесу свежий груздь не сорвешь, так и у бессовестного человека правды не вымолишь.
Про Соломирских сказывали, будто богатство тем и нажили, что кривдой жили. На конном дворе да в пожарке плети без малого каждый день песни страшные пели, а в горе гнили люди.
Захотел Пьер, чтобы барское сердце по-хорошему, по-человечьи забилось, да не зря говорится: легче лед весной в половодье на реке задержать, чем в барском сердце совесть отыскать.
Так получилось и у Пьера.
Наотрез отказался выполнить просьбу Пьерову барин. Потому стал ненавидеть Пьер Соломирского, происходили у него стычки с управителем и все из-за людей, за которых Пьер заступался.
Совсем впал он в немилость после случая одного и все из-за хористок. Жили хористки в подвале господского дома. Подвал был сырой и холодный. Харч ничтожный. Одним словом, гибель для девок и баб. Болеть они стали. Кто послабее — слегли, кто посильнее — в бега подались. А француз в ответе. Он учитель — с него спрос.
Тут, как на грех, один из господских гостей для потехи во время спевки подкрался сзади к девке одной и незаметно косу обрезал. Девка была ухарь, не из слабых. Повернулась она к нему да как принялась долдонить его, едва оттащили, а на утро убежала, как в землю провалилась. А в те поры привычка такая была: считалось, что девка без косы навек бесчестна. Вот и получилось: барину — потеха, а девке — беда.
Пошел Пьер к Соломирскому. Какие он вел с ним разговоры — неизвестно. Не по-русски они выражались. Только, видать, крупный был разговор: барин кричал, ногами топал, а Пьер белее бумаги стоял. Потом Пьер просил отпустить его обратно в Париж, да Соломирский уперся. Не потому, что жалел Пьера, а дурной молвы боялся. Узнают еще, что на заводах творится...
Стал Соломирский Пьера со всех сторон обходить. Как прёжде в Париже, вечерами петь у него учился, на скрипке играть, а мысль злую лелеял.
Пьер тоже не спал. В зимние ночи все чаще план свой обдумывал, а вечерами в избах простых, на посиделках, задушевные песни пел, с верными людьми советовался.
Пригрел сироту Аграфены Ефимку. Учить его грамоте стал, волшебные сказки про дальние страны рассказывал. Дружбу завел с бывалыми людьми и исподтишка узнавал, кто из беглых когда и как бежал.
Не враз родилась и окрепла дружба у Пьера с Ефимом. Часто так получается: с капли дождь начинается, да с ливнем кончается. Так и у Пьера с Ефимом. Хоть и различка была у них в годах — Пьеру двадцать первый, пошел, когда он на Урал приехал, а Ефимке — четырнадцать миновало, когда сиротой он остался, — а теплей да отрадней становилось у Пьера на сердце от дружбы с Ефимкой.
Жил Пьер в ограде господского дома, во флигельке. Частенько Ефимка у него оставался. Чем больше Пьер парня узнавал, тем больше к нему привыкал... И вдруг как обрезал парнишка. Ходить перестал, точно дорогу ему кто заказал.
Не сразу Пьер узнал, что на плечи Ефимки беда свой тулупчик накинула.
Не успели бураны студеные отгреметь и цветы в полях зацвести, как Федот привел в дом молодую жену — сыну мачеху.
Не больно желанной была Федоту она, да не смел он перечить родне — старшему брату, а брату напела жена, в сродстве была она с вдовой молодой.
Известно, как затевались в те поры свадьбы такие: ты вдовец и она вдова — по дому хозяйка нужна; молодую взять — из дома глядеть станет, старую в дом ввести — на сына ворчать будет.
Суды да пересуды — всучили мужику женушку.
У нее свой сын был. С первых дней взъелась новая жена на Ефимку. Стала кипеть в ней злость на него за что был он парень проворный, к отцовскому делу приважен — камень умел понимать. Родной сын у нее был до того ленив, что своей головы не причешет.
Как ввел Федот жену в дом, так обоих парней за дело посадил.
Только различка большая у них получилась. У Ефимки любая поделка — картинка, а у Санко не подсвечник, а ухват, не брошь, а корыто. Насмерть невзлюбила Ефима мачеха злая, только дня ждала, чтоб от него избавиться.
Как-то раз поздней осенью, когда Федот был в отлучке, заскудался головой Ефим. В клетушке, где парень работал, от спертого воздуха голову кружить стало. Возьми да выйди он к воротам постоять, ветерком об дуться.
А мачеха уже тут как тут и давай кричать:
— Обедало проклятый. Вишь, космы-то распустил, бездельник ты окаянный. Пропасти на тебя нет. Весь в мать уродился. Упрямый, как бык. Нечего тебе дома сидеть, отца объедать да ворота подпирать. Иди куда хошь.
Не постыдилась дурная, что парню только пятнадцать годов время отбило, схватила полено и давай понужать Ефима.
От горькой обиды хотел было парень стукнуть бабу, да не тот характер имел — рука не поднялась, хотя обида сердце жгла.
На крик сбежались соседи. Вступиться за парня хотели, жалеючи его, и Аграфену-покойницу все любили. Обезумел Ефим, весь посинел, а как кинулась мачеха с поленом — бросился бежать... В чем был, в том и ушел из дома. Унес он с собой думу нелегкую, обиду невысказанную на отца и на мачеху да еще унес печаль о любимой матери.
Бежал, бежал он, покуда не обессилел и не упал в траву по-осеннему сухую и жесткую. Чего-чего не вспомнил он, лежа в траве; мать вспомнил, как тепло было в зимнюю стужу на печке, отца — и он был другим...
В горах и в лесу быстро темнеет. Не приметил Ефимка, как последний луч солнца с вершинок сосен сбежал и за дальней горой скрылся. На лес пал туман. Первая звезда в небе зажглась.
«Куда же податься? К кому пойти? До солнышка прохожу, а пригреет, пойду в Кыштым — к деду. Стараться в горах с ним буду. Не прогонит поди. Пожалеет».
Холодно стало. Темень кругом. Встал с земли, опять пошел, чтоб согреться. Прошел с полверсты и остановился. Дрожь взяла. На дальнем своротке волки завыли.
Не из робких парень был. С двенадцати годов на охоту один ходил, а тут вот жутко стало.
Шел он по лесу и слушал, как филин ухал на мохнатой сосне, как сыч плакал, будто малый ребенок, как в еланях ветер гулял, с сосенками спорил...
Прибавил Ефимка шаг и очнулся: далеко-далеко меж сосен огонек замелькал. Обрадовался. Побежал, будто его там ждали. Видит: еланка в лесу небольшая, а за ней избушка стоит. Поглядел в оконце, где огонек светится, и увидел: сидит мужик у печки и руками чего-то перебирает. Услыхал мужик шаги за окном, оглянулся. Встал, сдернул азямчик с полатей, на плечи накинул и вышел во двор.
В амбарушке, у стойки, зарычали собаки.
— Кого бог послал? — спросил он и увидел Ефимку.
Страшно было смотреть на парня. Будто лишился он ума: без шапки, в рубахе одной. У Матвея (так мужика звали) на что крепкое сердце и то заныло...
— Дяденька дяденька. Я... Я... — топько мог сказать Ефимка и тут же у порога упал.
Поднял парня Матвей, внес в избушку, положил на залавке, азямом и полушубком накрыл.
Подбросил дров в печку, согрел кипяток, достал рыбы и хлеба. Когда парень в себя пришел, накормил его. А потом расспросил.
Без утайки рассказал Матвею Ефимка, да как бы невзначай проронил:
— Куды податься и сам в толк не возьму, в омут броситься, знать-то.
Не хотел и думать Ефимка так, да от горечи в сердце само это слово на язык подвернулось.
— Неладное дело задумал ты, парень, — сказал Матвей. — Не было у Печорских такого в роду. Знаю я твое го отца, знал и мать. Веселуха первая в заводе была покойница. Жить тебе надо, хоть и немудрящее дело наше, житьишко. Посчитай, у господ скотине лучше бывает. Вон, говорят, на конном дворе барские кони чё выделывают. В такой неге стоят, подойдешь, а он, жеребец-то, глаз косит: ты, мол, в портяной рубахе, и давай лягать, что есть духу. Лакеев, дескать, подайте — сам барин ездит на нас. Вот и возьми ты ее, скотина — а все понимает. Ну, да я про скотину ни к чему разговор-то завел. Свет-то клином не сошелся. Ты и сам скоро работать будешь. Парень большой. К делу привыкнешь. К жизни приглядываться станешь. Живу же я бобыль бобылем, а с избушкой своей, как с любимой женой, расстаться жалко.
Матвей помолчал и добавил:
— Не все ведь на улке осень да ненастье, бывает и ведро. Солнце проглянет, земля зацветет, и человеку легче станет.
Отогрелось сердце у парня. Спокойно уснул на заре Ефим а проснулся, у Матвея навовсе остался.
— Идти тебе все равно некуда, и никому ты не нужен. За избой осень. В бега с ватажкой податься не время. Ватаги прошли, как птицы отлетные, все улетели, на место до студеного времени уселись, — говорил Матвей Ефиму.— Харчей хватит. Не пропадем. К делу привыкнешь и сам заробишь. На первых порах углежогом работай — надзиратель не тронет, к отцу не вернет. Сам работник, сам и в ответе.
Остался Ефимка у Матвея, будто век жил с ним. И Матвей при Ефимке разговорился — значит, парень до сердца дошел. Кто его знает. Вышло только одно: на шел под старость Матвей богоданного сына.
Когда же совсем прижился Ефим у мужика, Матвей ему рассказал про свою заветную думу: «Вот соберу я всех сортов, сколько есть в нашей заводской даче, камней-самоцветов, по цвету их подберу, в котомку положу и айда в город к людям ученым, вот, мол, глядите, какой камень в уральской земельке хранится. Пущай народу мой камень кажут, людям и нашей земле польза».
— Дядя Матвей, а разиесть такой город, где камни кажут? — спросил Ефимка.
— А как же, есть беспременно. В Екатеринбурге такая контора на манер нашей заводской есть, там и камни кажут, только различка против моих большая. То ли мастерки с умыслом грань так положили, то ли камень, вправду, им никудышный достался — мертвяками лежат на суконках, не поглянулись они мне.
— Значит, ты не для корысти камень любишь, дядя Матвей? — спросил Ефимка Матвея.
— Знамо, не для корысти. Погаси лучину в избе — шибко станет человеку тоскливо. Так и без душевного дела невесело жить. Взять, к слову, меня: лес жгу, уголь. сторожу — все для брюха, а самоцвет ищу, в земле роюсь — для души, для радости и утехи. Потянуло меня к камням с измалетства. Через них и бобылем остался.
Еще одна радость была у Матвея — до старости любил голубей. Другой отец за малым дитем так не ходит, как Матвей хо своих голубей.
— Чистая птица,— говорил он.
В непролазном лесу жил Матвей, в куренях, и проходила возле избушки его тропа одна, для многих людей совсем известная, для других крепко заветная. В стужу, в буран, в полночь или ночь любой землепроходец иль беглый находил приют у Матвея. Тайное слово ему пришельцы тогда говорили, и он знал его, с ним только в избу пускал, а потом с добрым словом провожал нежданного гостя...
Ладно зажили два друга, старый да малый — Матвей да Ефимка.
Помогал парень Матвею уголь томить, по дому хозяйничать, печку топить, воду носить, шахты бить, камень искать в горе, да в земле рыться, а когда зима свои скатерти по земле расстелила, занесло все кругом, оба стали вечера коротать возле печки.
Матвей топазы гранил, а Ефимка из хрусталя бусы точил — для продажи на пропитание.
От углежогов узнал Пьер о Ефимке. Живо собрался на охоту. Добрые люди, верные друзья показали дорогу к избушке Матвея.
У старика слеза на глаз накатилась, когда увидел, как Пьер с Ефимкой встретились.
Два дня прожил Пьер у Матвея, не расставаясь с Ефимкой, а потом зачастил. Нет-нет и путь ему в курени подвернется, как в родной дом.
Раза два приходил до распутицы отец Ефимки — Федот, от объездчиков узнал он про сына. Наотрез от казался Ефим вернуться домой. Хотел было силой взять его Федот, да Матвея побоялся.
«В добрых руках парень оказался, пущай живет — не пропадет. К делу привыкнет», — подумал он и уехал на завод.
Весело работалось двоим, хоть по ночам вокруг избы метели да вьюги плясали, вековые сосны стонали. А когда студеный декабрь пришел, голубей в избу взяли. В сенках холодно стало.
С голубями в избе им еще веселее стало. Ефим над хрусталем трудится, а голуби будто его понимают то головой повертят, то на него поглядят, то промеж собой проворкуют что-то.
Как-то глядел, глядел Ефим на голубей и задумался:
«Что если из горного хрусталя голубя сделать?». Подумал, подумал и стал просить Матвея:
— Дядя Матвей, дозволь кусок хрусталя мне попортить — хочу голубя сделать. Пасха не скоро, игрушек успею наделать, а бус и так полно. Дозволь, дядя Матвей. Охота пришла.
— Попытай, если хочешь, дело хорошее. К пасхе смастеришь, пустим в продажу — одежонку справим
И еще сказал:
— Вишь, какая штука — голубя из хрусталя. Занятное дело. Делай, делай, хоть голубка, хоть голубку, только на птицу было бы похоже, твой камень — старайся...
Взялся Ефимка за дело. Ночи не спал, а к пасхе голубя первого сделал.
Долго рассматривал Матвей поделку, а потом говорит:
— Хороша птичка, ничего не скажу, а вот красоты голубиной нету. Статуй, а не вольная птаха.
Не сробел Ефим, вновь за работу принялся.
В голубце у Матвея долго ящик стоял с разным отбросом: цветной галькой, сердоликами, аметистами мутного цвета. Порылся Ефимка там, нашел сердолик красный, как кровь. Просидел еще с месяц, другой и нового голубя сделал: точь-в-точь как любимый Соколок и с настоящим птичьим сердцем.
Сердолик красной алмазной гранью отблеск давал, оттого весь голубь будто живой сверкал — и луч шел не снаружи, как бывает в стекле, а с нутра, с самой глубины камня, оттого весь голубь разным огнем переливался.
Говорили люди, будто увидел Ефимкина голубя из хрусталя мастер по камню — Спиридон Печерский. В силу он тогда входил, шапку снял перед голубем и долго молча стоял, не спускал глаз с поделки.
Не гляди, что простой да неученый народ тогда был, толк понимал — где талант, а где безделушка. Этим умельцам грамоты бы дать, науки послушать — не то бы еще смастерили...
— Ну вот ты и мастером стал, — сказал Матвей Ефимке. — Помни только: камень не человек, а совесть любит. В чистых руках красоту земли покажет, а у кого на совести грязь налипла, — в таких руках беспременно камень темнеет. Старики такой сказ говорили...
Весной, когда солнце стало припекать и земля оттаивать, горы молодеть, а озера ледяную одежду скидывать, по первому пути отправился Ефимка в завод.
Сдал в контору поделки свои — бусы, две хрустальные чашки и разную мелочь, — купил одежонку и харч, дяде Матвею подарок справил: кумачу на рубаху и двух голубей. У плотины на молодежь поглядел, девичьи песни послушал, мимо родного дома прошел, о матери вспомнил и зашагал в господский дом попроведать Пьера.
Не узнал Ефимка друга — от хвори весь почернел, а сам в печали.
До темна просидели они. Разузнал Ефимка все от Пьера.
— Хозяин в Париж уезжает. Надоел ему завод, а мне сулит суд. Будто я украл табакерку какую-то. Ее нашли у меня. Кто подложил, след не оставил. Надо ж такую гадость сделать...
Помолчал, а потом снова говорит:
— Кто же все это подстроил?
— Сдается мне, — ответил Ефимка, — дело это управителя. Он подложил табакерку, он. Перед хозяином выслуживается, скотина. Ненароком люди про него говорят: «Ночевали мы у вас — шуба потерялась». Не тужи те только. На нас положитесь. Мы вам с дядей Матвеем поможем. Скорей собирайтесь да тайком, чтобы вас никто не видал, — к нам в курени, а мы дорогу укажем, как с завода бежать. Бегите, беспременно бегите.
На том и расстались.
В воскресенье поутру колокольный звон по заводу раздался. Согнали народ господ провожать. Шум на площади поднялся. Прощанье. Слезы. Не по господам, конечно, а по своим заводским парням, что взял барин за границу.
Проводили. Одни со слезой пошли домой, другие от радости песни запели.
Опять управитель остался на заводе один хозяйничать: грабь, сколь влезет. Сам себе воевода. Сам и начальник. Как на таких больших радостях не задать пир. Утром господ проводили, а вечером пир учинили. Не где-нибудь, а в господском доме. Все свечи сожгли, в нескольких местах пол проломили — вот как плясали. Поп из Каслей свой крест потерял, щегерь осетрины объелся, а старший надзиратель с медом бокальчик глотнул — в утробу отправил.
А песни кричали, не пели, в Кашеной деревне младенцы ревом ревели от страха, а старики в церковь бросились, звонаря будить стали.
— Конец мира пришел. Светопреставление началось, — вопили старухи.
Вот это пир. На всю округу слышно было.
Три дня и три ночи гуляло начальство в заводе и опомнилось. Опомнились и хватились француза, а от него только смычок остался.
Матвей и Ефимка мешкать не стали. Молча друга в путь собрали. Загодя все для долгого пути приготовили. В крестьянскую одежду Пьера обрядили, на плечи котомку надели и втроем в Урал пошли. До большой дороги, где людно, Матвей повел, а Ефимка до ближней росстани. Обоим через Урал нельзя было пойти — наветки падут, подозренье. Куда, мол, оба ушли-запропали?
У трех дремучих сосен три дороги сходились, на вершине Маркова камня. Тут, значит, росстань и была. Лес стеной. Горы одна на другой. Глухие места. Медведя и то редко встретишь.
Подошли. Стал прощаться с другом Ефим, обнялись, как товарищи. У обоих слеза на глаз накатилась. Хотел было Пьер дальше пойти, да опнулся немного, а Ефимка той порой из-за пазухи двух голубей достал и ему подал.
— Вот вам от нас подаренье — один мой из хрусталя, а живой Соколок от обоих.
Обнял Пьер Ефима, по-русски спасибо сказал и зашагал молча с Матвеем... За Уралом у края дороги проезжей расстался Пьер и с Матвеем.
Матвей ему тайное слово сказал, будто ключ от дверей передал. В любом селе или городишке с этим словом в каждую избу пускали.
Матвей Пьеру еще два самоцветных драгоценных камня в руки подал: «Поминай, мол, друзей». Крепко обнялись, и пошел Пьер на свороток пути, а Матвей зашагал обратно, в курени.
А управитель дал встряску всем за Пьера, кому и не следовало, вдогонку отправил людей.
На том и кончил. Недосуг ему было. Три года остерегался, барской казны не трогал. А тут только время пришло, до француза ли ему было.
А Соломирский в Париже давно мысль затаил: «Все заводы в Сысерти под свою руку забрать, от казны отобрать. А как? Кого купить? Кому взятку дать?»
На его хотенье, в Париже болтался какой-то великий князь из близкой родни царского рода. Вот и придумал купить этого князя, подарки ему сделать.
Понесся барский гонец в завод, строгое господское приказание вез: «По получению сей бумаги доставить в Париж лучшее уменье заводских людишек. В ответе за отбор и представление сам управитель».
Дальше следовала допись: «Для поделок самоцветов не жалеть. Заводским мастерам за редкость поделки вольную посулить, через полгода отказать — дабы за не пригодностью изделья».
У церкви народу после обедни! Управитель барскую грамоту читал. Немало народу обзарилось на посулы господские — каждому хотелось вольную получить.
Поверил барской бумажонке и Ефимка. Такого голубка из хрусталя смастерил — одно загляденье. Рот раскрыл от удивления сам управитель, получив в главной конторе от Ефимки голубя.
Два огромных сундука, кованных железом, с поделками заводских умельцев с охраной большой, были отправлены в Париж. На первой паре в огромном рыдване выехал сам управитель.
Мерили люди версты в пути, а как приехали, не успели коням дать обсохнуть, а с себя грязь отскрести, как Соломирский гостей созвал, князя пригласил со всеми его прихлебателями.
Накануне званого вечера никто ночью не спал. Все готовились: на огромных столах, на пунцовом и белом бархате разложили дары уральской земли — самоцветы один другого краше.
Ласково мерцали они, привораживали.
На особицу, у стены на малиновом бархате, на ветке золотой, посадили Ефимкина голубка. Каждый огонек свечи в нем сотней огней отражался, оттого он не хрустальным казался, а драгоценным алмазом горел. Переливался. Да не просто алмазом — сердце рубиновое в голубке будто живое билось. Нашел Ефимка секрет, как грань положить на рубин, — оттого он живым казался.
Наступил вечер. Весь господский дом огнями сиял. Гордо ходил Соломирский по залам, ожидая гостей.
Приехали гости. Пожаловал и сам князь. Ходят гости по залам и удивляются: из целого камня мрамора и малахита колонны везде наставлены. Большущие вазы с резьбой и позолотой, подсвечники в три аршина вышиной всюду стоят. Перед гостями лакеи раскрыли двери белого зала.
Первыми вошли князь с Соломирским, а за ними гости хлынули. Охают, ахают, все восхищаются. Подошел князь с хозяином к голубю, хотел в руки взять, да Соломирский опередил — угодить старался, лакейство проявил. Схватил он голубка: хотел открыть рот для приветствия и князю вручить, взглянул на руку, а на ней вместо Ефимкина голубка, что накануне алмазом сверкал (своими глазами видал), простое стекло на руке лежало.
— Ай! Ой! — крикнул и тут же возле ног князя упал. Поднялся шум. Гости вмиг поразъехались, а от стеклянного голубка только одни осколки остались.
Когда же барин в себя пришел — начал кричать, пеной брызгать, от злости задыхаться, а потом за приказание взялся. Составлял, опять кричал и в конце концов написал: «Управителю немедля ехать в завод, мастера, что адские игрушки делает и колдовские шутки выкидывает, — живым взять и закопать в гору. Навечно».
Во всем обвинил он Ефимку. А это все подстроил тот, кто Пьеру табакерку подложил. Управитель свои выгоды соблюдал. «Ежели будет скандал, то мигом отправит меня граф на Урал, чтоб виноватых схватить». Думал управитель. И опять без ума заметался. Вызвал кучера-силача Кольшу Поздеева. Дал трешню — в одну ночь коней приготовить, всех к дороге собрать и наутро, благословясь, выехать.
— Куда, ваше степенство, отъезжаем? — завел было речь Кольша. Любил говорить парень, да управитель так грозно зарычал, что у Кольши от страха под ложечкой засосало. Он задком, задком и из глаз управителя скрылся.
Успел управитель Ефимкина голубка продать за большущие деньги, да еще полтинничек заплатить гранильщику в Париже за поделку голубка из стекла. И выехал в завод для исполнения графского приказания.
Старший лакей Митрич с малолетства был возле барина, с годами силу приобрел, стал степенным, но господ не любил.
Все слышал он, как барин про Ефимку кричал, видел, как приказание свое сочинял. Не по себе стало ему.
Для виду старик занемог, отпросился у лекаря (он возле барина сидел и пиявки ему на загривок ставил) на рынок сходить, корешков от ломоты купить. Лекарь не стал держать, и Митрич мигом собрался. Окольным путем добрался до дома, где жил Пьер.
Еще на Урале старик слыхал про Пьера: «Обходи тельный барин, не то, что наши долдоны. Пойдет наш барин, борони бог, так и норовит задеть, а этот завсегда ласковое слово скажет». И за песни Митрич Пьера сильно уважал и другим в пример ставил.
Знал старик о дружбе Пьера с Ефимкой. Хоть стороной, но слыхал старый про бегство Пьера с завода, а как в Париж с господами приехал, от дворовых добрую весть услыхал, будто добрался Пьер до дома родного и безбедно зажил — школу открыл на Матвеев подарок. В радость учителю пошли камешки с Урала.
Добрался Митрич до Пьера — казачок Оська довел, не раз парнишка к Пьеру на голубков родных поглядеть бегал, будто Урал видел парень в Париже.
Все рассказал Митрич Пьеру. Главное, о беде с хрусталем, о приказе барском.
Что придумать? Как другу помочь, из беды выручить парня?
Проводил Пьер гостя и задумался. Сидит и горюет, а сам на голубей смотрит, будто Ефимку видит.
Думал, думал он и решил бумагу послать с Соколком: «Может, и долетит. Голубь — птица умная». Подумал, да так и сделал.
Ночью все заготовил: написал писульку, вложил в кольцо, надел его на голубя и ранним утром, когда еще город спал, птицу выпустил.
Покружил, покружил голубь над домом и полетел на восток, где заря — утро загоралось, солнце поднималось...
Не зря говорят, что голубь — птица верная. Долетел Соколок до Урала. В дальней дороге устал, оголодал. У самого порога избы в куренях упал, а друзей выручил.
Хоть по складам, да разобрали Матвей с Ефимом послание Пьера.
К утру собрался Ефимка. Котомку на плечи надел. Поклонился в ноги Матвею и, когда чуть-чуть забрезжил на востоке рассвет, в дальний путь — в неведомый край отправился.
В Сибирь шел не один — на тракту его поджидало еще трое беглых из Каслей. Веселей и смелей было шагать ватагой, землю мерить, в Колывань добираться.
— С богом идите, — Матвей им сказал,— тракта держитесь. Народ в Сибирь идет. Варнаков сторонитесь, с верным народом дойдете!
— Прощай, дядя Матвей, прощай, — напоследок Ефимка Матвею сказал.
Долго, долго глядел им вслед Матвей, будто видел за уральскую степь, по которой шел его названый сын.
Много лет прошло с той поры, когда Ефим в Сибирь ушел.
Говорят, леса как моря — только гуляет там не волна, ветер и людская молва.
Докатилась молва с Алтая далекого до наших гор, завода.
Доброй славой добивался Ефим в Сибири широкой, хоть и в дальнем краю, да ставшим близким, родным ему и его детям.
Умение уральских каменных дел мастеров многим товарищам он в Колыване отдал.
Только, говорят, никогда больше из хрусталя голубей не делал. Не хотел бередить память о верном друге.
Про Матвея тоже молва долго в народе бродила, будто он с куреней ушел. А куда — неизвестно. Одни говорили в Петербург подался — стал работать на гранильной фабрике. Кто — будто видел его в Екатеринбурге тоже на фабрике, молодежь учил мастерству и умению, как камень гранить да самоцветы видеть в земле... Кто знает.
Может, и правда. Много ведь умельцев отменных работало в Екатеринбурге и в Петербурге — лучшие мастера были.
Про Пьера вести такие доходили на завод, будто Долгие годы Ефимкина голубя он хранил и внукам заветку оставил — беречь эту птицу как самую крепкую память о верном друге — уральском умельце Ефиме Печерском...