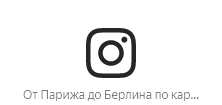Сугомакская легенда (Дунькин сундук)


На старой Кыштымской дороге, что от завода к Тютнярам легла, в дремучем лесу у болотца лежат два камня-гранита. Один Дунькиным сундуком народ называет, а другой — Самсонкиным гробом и легенды про них говорит. В далекое-далекое, старое время, где теперь Кыштымский завод стоит, лес да горы одни были. Люди горщицким делом занимались: шурфы били, самоцветы добывали. А там, где степь с хребтом спорит — кто из них хозяин здесь — в летнюю пору скот пасли, в лесах охотой промышляли. Долгие годы жили в местах здешние башкиры. По нехоженым тропам и беглые здесь пробирались, от царской неволи спасались. Всем хватало здесь места: ведь не было конца дремучим лесам.
Но вдруг большое горе с ними приключилось: заводчики Демидовы завладели Уралом. Один из них, Акинфий, в Кыштымской долине немедля завод заложил. Железный аркан на поселенцев надел, у самого их горла цепь натянул, но, как говорят: «Сердце кандалам неподвольно». И чем пуще заводчики лютовали, тем ярче ненависть у людей в сердцах разгоралась. Жарче огня в кричне была она, сильней смерти. Много подневольных людей стали гнать сюда Демидовы с разных мест отдаленных.
И вот как-то раз пригнали много-много народу в Кыштым. Выл он из смоленских далеких лесов — зеленого моря. Парни — один к одному, в плече равные. А девки — одна другой краше. Были среди них парень один — Устином звали, да девка одна — красавица Дунька. Об них и речь поведем.
Каждого пришлого, как на базаре коней, осмотрел сам управитель, а был это богатимый в то время купец Лев Расторгуев. Через верх-исетского заводчика Яковлева в купечество записался. Недаром любил Лев темную ночь да большую дорогу, с нее и в управители пошел, а потом и заводы к своим рукам прибрал. Одним словом, темный был человек Расторгуев, не светлей других заводчиков. Оскалил зубы Расторгуев, когда к нему Устин подошел. Видать, доволен остался. Руки потер, картуз поднял, хлопнул парня по спине, повернул раз-другой и крикнул:
— На гранит его. Самсона-те. — Имел он привычку такую: «те» прибавлять. — Ишь чисто Самсон! Силища-те! Лев! С той поры и забылось у парня имя. Стали его Самсоном звать. Раньше имена то редко знали. Больше всего по прозвищу отличали. Дунька же, как и другие девки, в другой ад попала, на елань, что теперь Соймановской долиной зовется, золото мыть угадала. Побежали дни, а за ними и годы. Стали люди гнезда себе по сопкам вить. Будто бы из камня улицы рождались. Как в котле вода, жизнь кипела. Но, как говорится: «Где вода кипит, там и накипь бывает». И верно. Враз появились на заводе средь рабочих разные душегубы: надсмотрщики, погонялы, наушники да егеря. Был среди них и Перфишка, Киприком его еще звали, а то и Удавом. Начнет он людям урок давать, как примется правилками махать... С первых же дней невзлюбил Перфишка Самсона. Не раз нападал на Устина, что тот ко времени урок свой доконать не успевал. Давалось Самсону резать и таскать гранит для расторгуевского дворца, что на косогоре вырастал. Часто за ребят работал Самсон. Не под силу было малолеткам камни подбирать и в тачку класть. Плакали от надсады ребятишки, а Самсону было невтерпеж. Жалел он их шибко, а бывало и так: враз кто-нибудь из работных занеможет, а гранит резать надо... Шло время. А Самсонка все работал, стопудовый гранит резал да людям помогал. Не вил он гнезда себе, не манили его девичьи косы, что мелькали перед ним. Чужими ему девки все казались, хотя многим из них люб он был — кудри и глаза его девкам головы кружили. Только одна сердце его щемила, та, чья коса перед ним ни разу не мелькала, чьи глаза любовались не им.
Полюбилась Самсону Дунька еще дома, в родной деревне. Росли вместе. По вечерам зори они вместе часто провожали. Красавица Дунька сиротой жила. Отец и мать ее не дошли до Кыштыма, на краю дороги люди схоронили их. Диво людей брало, глядя на девку: и одета чуть не в тряпки, и голодна, и без материнской ласки росла, а посчитать — всех краше во всей округе она была. Складная, ловкая, будто кто в Куелге из самого лучшего мрамора точил ее, алой сараной ее маленький ротик цвел, а большие глаза, чуть с косинкой, так печально на людей глядели — век таких глаз не забыть! Не говорил Самсон девке, что она ему желанная была. Знал он, давно уж догадался, что не про него она думу берегла. Другого Дунька любила, парень был неплох: чернобровый, статный — красавец Евсей, один во всей округе певун и соловей. И вот как-то раз забрел Самсонка на вечеринку, невмоготу ему было оставаться одному, казарму караулить. На посиделках была и Дунька, милого ждала. То ли от песни, то ли от ночи такой теплой, ясной не выдержал Самсонка и к Дуньке подошел. Посмотрел на девку, а она туманная сидит. Слово за слово. Призналась Дунька, рассказала, будто брату, что любовь у нее с Евсеем расцвела, да только под венец ее вести он не хочет. Отец и мать благословения не дают. Дескать, сирота, гола, у самих и так нужда.
— А ты не печалься, Дуня, — тихо сказал ей Самсон. — Знаю я сиротскую долю, сам вот сиротой, ты знаешь, живу. Миром мы тебе поможем. Приданое соберем и в сундук положим, — добавил Самсонка и так вздохнул, будто потерял чего-то.
— Что ты, Самсонка, да видано ли дело — сундук с приданым собирать, — сказала Дунька и тоже вздохнула, но только по-другому, будто что нашла. По деревне знала еще девка, что верен на слова был этот парень. И вот при ярком свете, днем, при людях, не стыдясь, Самсон принес на загривке к Дунькиной избе кованый сундук, а в нем лишь одни самоцветы лежали. И когда нес его Самсонка, без малого вся улица была. Конечно, первыми прибежали ребятишки, за ними — жены работных, а потом и мужики. Праздник был какой-то. Говорят, он Макар, как увидел это шествие людское, аж сплюнул чуть ли нe в лампаду от досады.
— Икону так не провожают, как за Самсоном все идут. Ишь ведь, чудо какое: сундук понесли, — ругался он вдогонку людям. А было это, и вправду чудо — и не только для Самсона, но и для тех, кто парня знал, кто, вынув из запрятанной тряпицы самоцвет, клал его в мирской сундук Дуньки. Знали люди и раньше, что ежели надо пойти в огонь или в пожарку — под плеть, чтобы выручить друга из беды, не задумывался Самсонка. Оттого никто не удивлялся, что он и Дуньке помогал. А о том, что он любил девку, никто не видел и не знал. Умел Самсонка любовь свою хранить так же крепко, как Дуньку крепко он любил. Но когда ему навстречу из балагуши выбежала Дунька, увидев его с сундуком, и кинулась ему в ноги, не выдержал Самсон, аж побелел, будто вся его кровь отхлынула от сердца и, смешавшись с его любовью, как из глубокой раны потекла. Он закачался даже, а потом, поднимая с земли Дуньку, поглядел ей в глаза, да так, что у многих слезы показались. Сказал ей два-три слова и круто зашагал в проулок. По-разному об этом люди говорили. Кто жалел парня, кто говорил, как дед Петро, что, дескать, «разная любовь бывает: у плохого она с воробьиный шаг, а у доброго — с полет орлиный. Сам орел наш Самсон. Такая и любовь у парня». Но никто ни разу над Самсоном не смеялся. Каждый понимал, что любовь у него была выше Сугомака, светлей и чище Увильдов. Как-то раз ночью, дня за два до свадьбы Евсея с Дунькой, огонек до свету в одном окошке дворца Расторгуева мельтешил. Управитель вел беседу за чаркой старого вина с Перфишкой. Узнал он о Дунькином сундуке и отнять у ней его задумал.
— А за одним и с Дунькой рассчитаться! — подсказывал ему Удав. — Не раз она, смутьянка, девок в шахтах подбивала на работу в постный день не ходить, дескать, харч голодный. Был накануне свадьбы у Дуньки девичник. Девки песни пели, сарафаны шили ей. Вдруг колокольцев звон раздался под окошком. Не успели девки шум поднять — ни Дуньки, ни сундука...
Бежал, как на пожар, Евсей из мокрой шахты, вместе с Самсоном работал он. Никто не видел, куда разбойники подевались, куда тройку угнали. Не спалось в эту ночь и Самсону. Тихонько слез он с нар и пошел на улицу. Ходил он на завод, потом к заветной балагуше невзначай забрел. А там крики, споры. Он туда прямо. А Расторгуев в это время в одной из самых дальних заимок уже в Дунькином сундуке рылся.
— Ох и дурак же Самсонка-то, — шипел управитель. — Таким богатством владеть и нищим оставаться. Да я бы-те сразу откупился, в купцы попал, как я. Погоди, через эти самоцветы сам я миллионщиком стану, в кулак Урал зажму, киржацкие клады откопаю, — и опять захохотал. Не видел Расторгуев, что люди тайно в горах копались. На господские-то харчи да обсчеты не шибко разживешься. Вот потому и смог каждый дать по самоцвету, а получилось миром — Дуньке-сироте приданое собрали. В том и сила была мирского сундука у Дуньки, что из нищей стала она богаче королевы.
— Ну и дурак Самсонка-те, ну и дурак! — хохотал, икал и снова хохотал управитель. Потом Перфишке сказал:
— Мы тут распустим слухи: сбежала-де Дунька. Убегом за другого, мол, ушла. Для вида погоню-те наладим. А сам в ту же ночь с алмазами в город укатил. В надежное место спрятать, а то продать. Перфишке же приказал заимку караулить, в помощь дал лакеев, егерей. Трудно было управителю от взора людского уберечься. Не ведал Расторгуев про то, что у Самсонки была любовь к Дуньке, не отступился парень. Пошел с ним искать Дуньку и Евсей. Искали они девку, а наткнулись на сундук. Кто навел? Кто помог? Одни парни знали. Но, конечно те, кто с ними в одной шахте гнил. Воротился Расторгуев из Екатеринбурга и на заимку вершним поскакал. Пригнал. А то место, где дом стоял, уж пепел покрывал, да головешки от костра по сторонам лежали. От егерей, лакеев и Перфишки и духа не осталось. Тихо, жутко стало. Соскочил с коня Расторгуев, обошел кругом место и на громадный камень, как есть сундук, вдруг наткнулся. Лежал этот камень у самой дороги, а за ним, на траве, Сеня-дурачок сидел, известный всему заводу недоумок и горько плакал. Подошел к нему барин, а тот еще пуще запричитал.
— Окаменел сундук у Дуньки, окаменел, — надрывался Сеня. Хоть и был он дурак, а видно сумел понять, зачем его тут посадили и научили, как управителю сказать, ежели он приедет.
— Да ты толком-те расскажи! — ревел от злости Расторгуев.
— Твой Перфишка туточка был. Дунькин сундук околдовал. — И замолчал. Потом вдруг закружился и закричал: — Колдовал, колдовал Перфишка. Рыло на месяц поднял и выл. Хлестнул плетью Расторгуев парня, вскочил на коня и опять погнал. Не выдал, не обсказал недоумок Сеня ни Самсона, ни товарищей его. И что ночью здесь было, утаил. Зато те, кто в это время пробирался на заимку, повеселели. Привычными они были к грозам: ведь всяко приходилось работать. И когда Самсон с парнями из мокрой шахты и Евсеем первыми ворвались в дом, поначалу удивились — будто вымер он. Но Перфишка догадался, кто пришел и зачем, выхватил он саблю у одного из лакеев и поднялся из подполья. За ним все остальные. Рубились в потемках. Только молнии освещали тех и других, выстрелы гремели и сабли играли на свету. Неугасима была ненависть у работных к господам, как не гасла она у господ к рабам, восставшим против них, а потому будто две силы, страшные друг для друга, сошлись в стенах заброшенного дома на заимке. И об этом не рассказал барину парнишка. Не рассказал и о том, как на заре сундук с самоцветами парни увозили, а Самсон огромный гранит принес и научил Сеню, как барину говорить. Наутро в заводе только и было брякотни и разговору про то, как Дунькин сундук окаменел. Сами работные слух такой пустили, чтобы Расторгуева обвести, в то же время понимали, что он им отомстит за Перфишку и за заимку.
— Не миновать расправы нам, действовать надо! — говорили они между собой, а потому из тайников Сугомака оружие выносилось. Расторгуев тоже не дремал. Тайком он отдал приказание охрану завода усилить. Двух егерей в Екатеринбург отправил просить тобольских казаков прислать, а сам на другой день с отрядом на рудник поскакал. А как приехал и увидел, что пустой рудник — остервенел. Даже девки, и те не вышли на работу, взбунтовались.
— Егерей, казаков сюда! — закричал он, а сам коршуном понесся на Тютняры, узнав от оставшихся в живых лакеев, что работные там в верстах десяти собрались. Прискакал, спрятался с казаками за угор. Но что это? Сквозь лес увидел Расторгуев Самсона, а вокруг него кольцом мужики из кричен и мокрых шахт стояли. А в это время лились Самсонкины слова, и были они жарче пламени.
— Братцы, не слезами и молитвами надо воли добиваться, а вот чем, — и он кулак свой показал.
— Грудью, кровью, а ежели придется, как покойный Емельян. Взбесился Расторгуев. Кивнул он казакам, чтобы следовали за ним, и залег за угор, как перед настоящим боем. Что тут началось! Но не равны были силы, да и работные были застигнуты врасплох. Однако дрались... Ни один живым не сдался. Погиб и Самсон. Как кедр могучий, до последа он стоял. И тогда в память о нем работные, что от страшной бойни уцелели, из гранита гроб долбили и на проезжей дороге, как на могиле, поставили его. С тех пор этот камень Самсонкиным гробом люди называют и разные сказки про него говорят.
— А что с Дунькой? Куда девалась она? Молва такая сохранилась: сбежать ей удалось. Помогли ей, конечно, те, кому дорога память о Самсоне была.